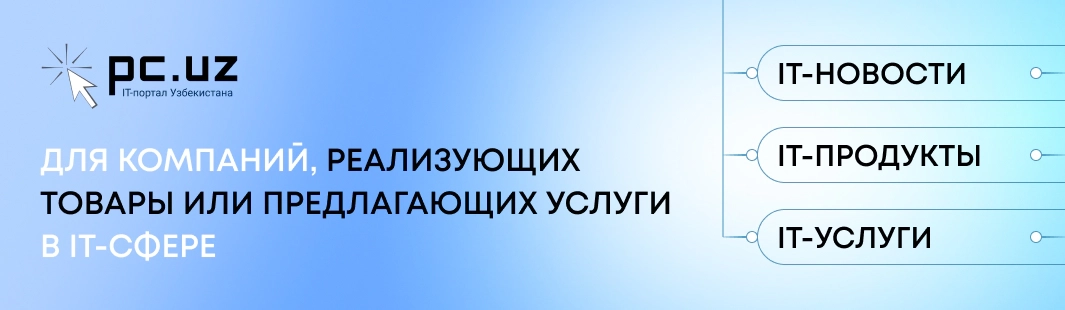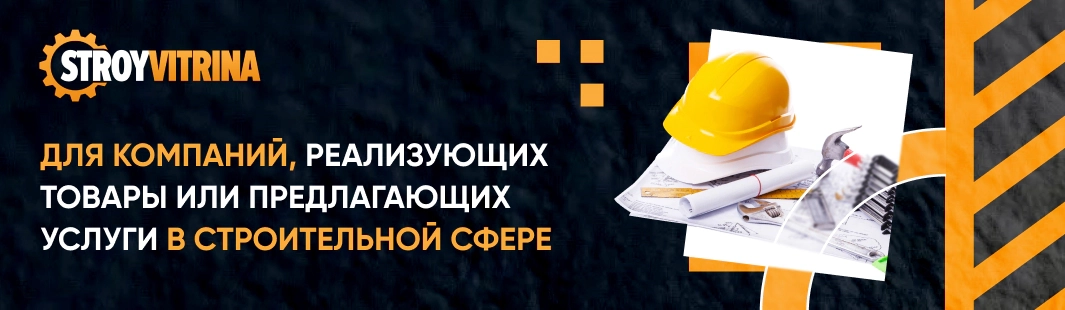Дворец Романовых в Ташкенте
В центре Ташкента, среди аллей старинных чинар и городской суеты, скрывается здание, ставшее не только архитектурной жемчужиной, но и символом драмы одной из самых известных династий Российской империи. Это — Дворец Романовых, построенный в 1891 году для великого князя Николая Константиновича Романова. Здесь европейская архитектура слилась с восточной декоративностью, а история приобрела осязаемую форму в виде витражей, дубовых лестниц и восточных ковров.
Несмотря на то что сегодня дворец используется как Дом приёмов Министерства иностранных дел Узбекистана и недоступен для массового посещения, интерес к нему не угасает. Тысячи туристов обходят его по кругу, фотографируют фасад, ищут бронзовых оленей и мечтают о дне, когда двери этого дома откроются вновь. Почему этот особняк вызывает такой интерес? Дело не только в его архитектуре — за каждой стеной скрыта история любви, ссылки, благотворительности и личной трансформации.
Поговорим подробнее о судьбе этого здания, его владельца, архитектурных особенностях и о том, почему дворец до сих пор остаётся одним из самых таинственных символов Ташкента.
Как Николай Константинович оказался в Ташкенте
История появления дворца начинается с драмы в самом центре российской аристократии. Николай Константинович, внук Николая I и один из самых образованных представителей династии Романовых, был человеком увлечённым: военная служба, коллекционирование, любовь к путешествиям и женщинам. Но судьба распорядилась иначе — после скандала, связанного с кражей драгоценностей из иконы родителей, князя объявили душевнобольным и сослали в Туркестан, вдали от Санкт-Петербурга и императорского двора.
Ташкент, в который он прибыл, был совсем иным городом — пыльным, отдалённым от центра империи, но полным потенциала. Вместо отчуждения князь начал новую жизнь: вкладывал деньги в инфраструктуру, открыл кинотеатр, пекарню, занимался ирригацией и организовывал культурные события. Именно в этот период и возникла идея строительства собственного дворца — не просто резиденции, а культурного центра, музея, символа его новой жизни.
Архитектура дворца: от модерна до восточного орнамента
Здание проектировали архитекторы Алексей Бенуа и Вильгельм Гейнцельман, придерживаясь модного на тот момент стиля модерн. Это был двухэтажный особняк из серо-жёлтого жженого кирпича, материал, который использовался в Ташкенте крайне редко. Фасад украшали башенки, витражи, резные карнизы и необычные окна, что делало дворец похожим на загородную резиденцию европейской знати.
Парадный вход был оформлен особенно богато: бронзовые олени и охотничьи собаки, живые изгороди, витая решётка, а к самому зданию вела застеклённая аллея с колоннами. Оформление перекликалось с Петергофом, недаром в народе дворец называли «малым Петергофом».
Внутреннее устройство дворца включало:
— Главный холл. Просторный зал с фонарём на чугунной цепи, деревянной отделкой и несколькими входами в покои;
— Библиотеку и бильярдную. На втором этаже, доступ через винтовую лестницу, обустроенную из узорчатого металла;
— Зимний и японский сады. Апельсиновые деревья, ручейки, мостики, фигурки животных — всё как в настоящем японском парке;
— Тематические залы. Один — в восточном стиле, другой — посвящён Хивинскому походу с макетом крепости Ичан-Кала;
— Столовую. С дубовой отделкой, расписным потолком, семейным серебром и фарфоровой посудой императорского производства.
Такое разнообразие интерьеров создаёт ощущение музея внутри жилого дома. И это было не случайно — князь действительно задумывал резиденцию как открытую сокровищницу, доступную не только для знати, но и для простых горожан.
Каждое помещение было продумано до мелочей, а во внутренней отделке принимали участие местные мастера, работавшие в технике ганч. Они придали дворцу неповторимый облик — синтез русского модерна и среднеазиатского орнамента, что сделало его уникальным не только для Узбекистана, но и для всей Центральной Азии.
Роль князя в развитии Ташкента
Великий князь оказался не просто сосланным дворянином, но и одним из первых реформаторов города. Он активно вкладывал собственные средства в улучшение городской среды: финансировал строительство оросительных каналов в Голодной степи, основал солдатскую слободу, создавал мастерские, мыловаренные и хлопковые мануфактуры. По его инициативе в Ташкенте появились первые фотомастерские, публичные бильярдные, заводы по переработке риса и торговля квасом.
Среди его начинаний:
— Открытие первого кинотеатра «Хива».
— Создание зверинца на территории дворца, который по воскресеньям был открыт для посетителей.
— Массовая посадка чинар, многие из которых до сих пор растут по центру города.
— Подарок городу — уникальная библиотека и антикварная коллекция.
— Постоянная поддержка беднейших слоёв населения.
После смерти князя в 1918 году, его тело было погребено рядом с Иосифо-Георгиевской церковью, располагавшейся напротив дворца. Самое важное — он завещал всё имущество, включая здание и коллекции, в дар Ташкенту, с условием, что в особняке будет открыт музей.
Эта просьба была выполнена, и в 1919 году на базе его собраний был открыт Музей искусств, а дворец стал первым в Центральной Азии местом, где можно было увидеть шедевры живописи и скульптуры.
Дворец после Романова: музей, пионеры и дипломатия
После революции здание не разрушили, как это часто бывало, а наоборот — стали использовать по назначению. В начале XX века в нём разместился Музей изобразительных искусств, затем — музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана. С 1940-х по 1970-е годы во дворце находился Республиканский дворец пионеров.
К концу XX века здание было отреставрировано. Сегодня это Дом приёмов Министерства иностранных дел Узбекистана, территория которого закрыта для свободного посещения. Однако сам дворец остаётся важным элементом туристических маршрутов: его изучают экскурсоводы, исследуют архитекторы, фотографируют путешественники.
Дворец Романовых в Ташкенте — это больше, чем архитектурный памятник. Это рассказ о падении и возвышении, о том, как изгнанник может стать героем, а здание — символом преображения города. Он хранит в себе дух эпохи, когда Ташкент начал превращаться из периферийного военного пункта в культурную столицу региона.
Возможно, совсем скоро этот дворец откроет двери новым поколениям, как мечтал его хозяин. И тогда история Николая Константиновича Романова продолжит жить — уже не только в книгах и музейных залах, но и в сердцах тех, кто войдёт под его своды.